|
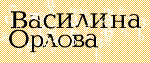 |
|||||||||||||
| |
|
|||||||||||||
Книга Олега Зайончковского «Сергеев и городок» - из редких, что перечитаешь. Она наполнена задушевной интонацией бесконечно длящегося разговора, и беседа эта, спокойная, размеренная, на протяжении всей цепочки новелл излучает равномерное тепло, от которого мы уже отвыкли. Да и то сказать, не бывает такого много. «Сергеев и городок» не содержит острого сюжета. И вообще не содержит никакого особенного сюжета, плавно нанизывая на ось равномерного читательского интереса равноценные картинки из жизни местечка. Замедленное течение времени, впадающего из эпизода в эпизод, вызывает желание подольше пожить в городке и подробнее поговорить с этим самым не очень-то и проявленным Сергеевым: обыкновенным Сергеевым из неких общепонятных Сергеевых, наблюдателем, который пришел не со стороны, а вырос здесь и искренне любит тех, чьи лица уже давно хорошо знакомы. Все-таки жители городка встречаются не по разу на дню, успели приглядеться друг к другу. Время пространно, пространство вневременно. Очень уютная книжка. «За окошком уже слышно: скрип-скрип… потом скрип-скрип-скрип… снежный скрип нарастает и сливается, так что может почудиться, будто сходит с горы лавина или оползень. Посмотришь на улицу – и сердце зайдется в радостном изумлении: как же нас много! Ровным, широким потоком идут рабочие, оставляют за собой густые шлейфы дыма, словно ход им дает паровая машина; инженеры выпрыгивают в толпе, как горбуша, спешащая на нерест». Утро рабочего квартала. И как будто не в конце пятой пятилетки третьего тысячелетия в стране победившего капитализма написано. Если бы не ирония. Впрочем, почти никогда ирония не переходит в сарказм, а где переходит – возникают некоторые прорехи в ткани повествования. Но чаще не переходит. Не так давно пришла ко мне книжка нанайского писателя Петра Киле «Весенний август». Издана «Современником» в 1981 году, и вряд ли интересует современников в начале 2005. Вся она дышит еще тем временем и дыхание это чисто, напоено запахами кипрея у железной дороги. Там про молодого ученого сказано: «Он полюбил Москву, как горную вершину, с которой видна вся Земля, в особенности, конечно, Россия…» Удивительное чувство возникает, когда читаешь эти ясные признания. Надежно казалось, ничего подобного сегодня уже никто не скажет. Эпоха не та. Немодно это, не вызывает доверия открытость, да и Москву принято хаять, а не любить, а изо всякого маленького подмосковного городка положено стремиться в иные места. Перекошенные ставни, облупившаяся мозаика, потрескавшийся асфальт, куски штукатурки на траве, темные подтеки на стенах домов от прохудившихся водостоков, гололедица и старые погромыхивающие автобусы с серыми от пыли вымпелами под кривым зеркальцем заднего вида. Что в этом красивого? Как и любить-то все это, кажется? Никак, если души нет. Не получится. «Сергеев и городок» невозможно прочесть «на одном дыхании». Такие книги пишут долго, вот и читаются медленно. Походил по сцене, подышал тем воздухом, поговорил с человеком – отложил книгу, вынырнул передохнуть. Не сказать, что книга высокого трагического начала или по-особенному как-то глубокомысленна. Не этим дорога. Чем же? Вот о герое новеллы «Переезд», возмущенном воровством на стройке, сказано: «У соседей своих Василич тоже не находил понимания: в целом люди не склонные к философии, они, однако, держались той доктрины, что в России, сколько ни воруй, все равно что-нибудь останется». И неожиданно становится понятно: подобное убеждение именно доктрина, то есть – теория, и даже не особо омраченная умозаключениями, не отягощенная попытками понять существо происходящего. Одна из самых пронзительных новелл в сборнике – именно «Переезд». Выдохнуто с какой-то простодушной мудростью. В «Переезде» любовно сконцентрированы представления народа о метафизической «лучшей жизни», которую отчаялись дождаться. Василич, пожилой рабочий, живущий в коммуналке, сломал ногу, и впервые за целую жизнь, может быть, получил столько свободного времени, что девать некуда. Попроведать его заходит в основном соседский Санька, а еще в доме живет кошка Манефа. На пустыре под окнами строится новый дом, куда и переселят жильцов из развалин когдатошнего монастыря. Шумные обитатели коммуналки готовятся к переселению в мир иной: «жизнь там совсем другая пойдёт. В таких домах каждый сам по себе живёт», - говорит Василич Саньке, сетуя, что тот не станет бывать у него в гостях. Санька юн и честен: он «всегда будет приходить». Но старший что-то своё ведает: и Манефы, мол, там не будет – «кошки к одному дому привержены». Не знаем мы, стал бы заглядывать Санька к старшему другу? Не довелось. Посмотрел-посмотрел Василич, как растаскивают материалы для нового дома, да й помер. Не оттого, что растаскивали, конечно, а просто тромб оторвался в больной варикозом ноге. «Не дождался, сердешный, переезда», - всхлипывает сердобольная соседка. Тут-то бы и конец, и поставить точку? Олегу Зайончковскому хватает дыхания ещё туже дожать тугую пружину повествования: на развалины монастыря пришёл Санька, принёс объедки отощавшей Манефе. «А что же вы её с собой не забрали?» «Санька выпрямился: «А вы разве не знаете, дяденька? Кошки к одному дому привержены – вот беда». Вот теперь притча состоялась. И афористичный смысл, просвечивающий в малой форме, ясен до боли. Из смеха да шуточек произрастает трагедийное звучание эпизода, не слишком значительного вроде в коловерчении общей быстротекущей жизни. Но если не такие события составляют наше настоящее, то что? Исподволь «Сергеев и городок» настраивает на совершенно особый лад. Книга ценна, когда содержит в себе больше, чем можно о ней подумать «внутри текста». По сути дела, Сергеев в том городке – мягкий портрет нашего современника в «естественной среде обитания». Он ни во что особенно не вмешивается, не встревает. Поможет, чем сможет – скорее всего, просто выслушает. Без особенного интереса, но внимательно, и не с антропологическим любопытством, а как друга, поскольку и сам такой. Сергеев повсеместно и нигде конкретно. Дышит, практически как дух, где хочет. То там проглянет, то сям. То словом себя обнаружит, то движением. Но никогда не будет припечатан автором как на фотоснимке в новый паспорт, в фас и с открытыми ушами. Форма ушей Сергеева остается таинственной, и это очень важно. Его облик размыт, потому что недооформлен теми обстоятельствами, которые он проживает. Они обыкновенны: учился в школе, был влюблен в одноклассницу, вот работает, вот поддается нелепому подозрению, что жена ушла от него – а она не уходила вовсе никуда, она поехала родню выручать из некоторого затруднения. Даже с завершением не очень понятно: ну бросился Сергеев спасать старушку из занявшейся пламенем больницы. На перекличке не досчитались. Ищут пожарные, ищет милиция. И не существенно, что нет значка ГТО на груди. Мы знаем этого человека, он из наших. Поскольку есть в нем некая не скажу металлическая, но вполне определенная, да, точно, добротная основа. Эта основа есть любовь, простите высокопарность. Та самая, что позволяет ему глядеть в лица другим, своим согражданам, отчетливым, трезвым взглядом, и видеть все нелепости, но опять же любить их. И не просто относиться снисходительно, а всего-навсего воспринимать, как людей. С постоянной памятью, что и сам таков, как они. И в финальном коротком эпизоде жив-здоровёхонек Сергеев. Ведь он метафизический персонаж, и реальные отражения такого идеального Сергеева везде и повсюду нам встречаются, просто мы привыкли к ним, к нам, то есть, не замечаем, не хотим видеть. Обывателем он нам кажется, житель вечного городка. Мы на него обрушиваемся иной раз: такой-рассякой, производительность труда у него маленькая, потому и зарплату он получает ниже всех и всяческих мировых стандартов. Не первый век, между прочим, производительность у него из рук вон плоха. «Русский народ мало трудится», - на эту фразу деятеля, имени которого великодушная история не сохранила, еще Саша Черный писал: «Ах, сквозь призму критицизма//Гениально прост вопросец://Наш народ – не богоносец,//А лентяй и слюнтяй». Продолжение вы помните. А что Сергеев? Ведь впрямь растительную жизнь ведёт! Хлещет в бане мужика-заочного побратима, имя которого забыл спросить, а лица попросту не увидал. А тот ему душу запросто изливает: «Это и есть растительная жизнь – когда все растет и все живет. Растительная жизнь – чем она плоха? И воздух где чище, нежели в лесу, среди растений? Однако находятся критики – кого ветром занесет, кто самоходом (жабу свою выгуливает). Те самые бедолаги, которые путают свои нервные болезни, понимаешь, с духовностью». Ценная книжка. Не важно, что не роман. Вообще нельзя без слез смотреть на во-что-бы-то-ни-стало-романы современных писателей, таких, как «Качество жизни» Алексея Слаповского: будни разочарованного адаптатора, замешанные со скупой мужской слезой. Вообще не очень ясно, зачем читать гладкую и холодную книжку, рассыпавшуюся в конце на рвань не связанных эпизодов. И сколько их, таких, составляющих шумный фон. Даром что безрыбье, уверена, книга «Сергеев и городок» и в другой культурной ситуации, невыхолощенной, нашла бы своего – и не читателя, больше: перечитывателя.
© Василина Орлова |
||||||||||||||

|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||


