 |
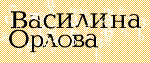 |
||||||
| Отрезки времени |
| стр. 1 | содержание |
|
|||||
|
Забавно то, что все тарелки, глубокие и мелкие, были стальными. Кидаешь ее - а она целенькая. Мой друг говорил мне, что со стальной посуды едят сикхи. Поэтому, когда я попала сюда и увидела стальную посуду, я даже обрадовалась: значит, все это не просто так. Я прохожу здесь послушание. Теперь я докажу, что я действительно достойна посмертного блаженства. В первый день я спала. Нянечка, которая еще не знала, что происходит, мягким голосом увещевала меня. Надо учиться, над работать. Ты еще молодая, тебе жить да жить. Не принимай ничего близко к сердцу. Я недоумевала: о чем это она? Я иду, и путь мой на изломе тлена, вот-вот начнется полное осознание. Поэтому я мыла посуду. Поразила женщина без одной груди. Я не знаю, куда она ее дела - но (она сидела на кровати без ночнушки и раскачивалась из стороны в сторону, монотонно и гнусаво распевая мантру собственного сочинения) она была одногрудой, как амазонка. Вместо второй чернела невразумительная точка: то ли увядший сосок, то ли какое-то нагноение. Здесь было не место для духовных упражнений, и это было понятно сразу. Но, так как все вокруг меня было тленом и тенью, я пыталась уравновесить женское и мужское во всех девяти своих астральных телах, понимая, тем не менее, что попала в ад. В одну из наиболее жестких и тупых лок, где насилие могло последовать в любую минуту. Но я помнила об одном страннике из Бангладеша, просветленном Абел Агане, который медитировал, пока бесы терзали его плоть, и не хотел выйти из своего состояния полного сосредоточения не смотря на то, что жители его родной деревни били его острыми бангладешскими камнями. Мне также было известно о Рональде, святом из небольшого средневекового феода в Европе (не хочу порочить страну, где это произошло, упоминанием ее названия): соплеменники, не желая отставать от соседних сел, в каждом из которых хранились мощи своего святого, регулярно мироточащие, исцеляющие больных, помогающие прозревать слепцам и пугающие ведьм и колдунов, что продали души дьяволу, до истерических припадков, так вот, говорю, соплеменники, среди которых наверняка были люди, знавшие святого в детстве, его учителя, его родня и, может быть, кровные или сводные братья - эти достойные самаритяне решили немного поторопить таинство успения, ускорив его вилами, какими сгребают сено. Но Абел Агану не давали транквилизаторов, отнимая у него рассудок и молчаливый разговор со Всевышним. А Рональду не выписали диагноза и не назначили успокоительных ванн. Поэтому мое положение было хуже, к тому же, откровение оставалось неустойчивым, как мобильная связь в удалении от башен МТС, и я, повторюсь в третий раз, мыла посуду. Я только что видела, как ее хватали жирными пальцами неопрятные соседки, некоторые из которых забыли свои имена, но сразу запомнили мое, чтобы, подходя близко к моему схваченному гипсом горя лицу, произносить его с упреком, так что оно впоследствии навсегда приобрело для меня оттенок чего-то неприятного, другие... Тела других, как сказал бы врач, претерпели соматические изменения. Много позже в одной из книг я прочла, что некоторые виды транквилизаторов, которыми нас там лечили, обладают такими свойствами: они вызывают временный паралич лицевых мышц, судороги вроде тех, например, от которых правая щека вместе с губами съезжает на сторону, а левый глаз выпучивается. Тогда я этого, естественно, не знала, и принимала видимое вокруг за чистую монету. Думаю, лечили нас там варварскими методами. Когда-нибудь это станет такой же дикостью, какой сейчас представляются процессы над ведьмами, насылающими грозу и отравляющими корову добродетельного кума, который кричит на процессе, что она и третьего года отняла молоко у его коз: он видел, как она летала на помеле и черными губами собирала помет лягушек. Но пока это медицина. Санация. Способ очистить общество от скверны, которая может его погубить. Одна, особенно перекошенная, приставала ко всем с вопросом: «Что будет вчера?» В первые дни я все пыталась внести свои уточнения: «Завтра, ты хочешь сказать? Или – что было вчера, тебя интересует?» Но она твердила свое. Лоб ее был всегда стянут лентой. Только на вторую неделю я поняла, о чем она говорит. И тогда, словно она была гуру (вуду, махатма, махариши) и этот этап осознания был пройден мной, ее ученицей, она подошла ко мне очень плотно и спросила жестко, словно ударила ножом: «Что будет вчера, если завтра кончится сегодня?» Лишь много позднее я убедилась, что вторая часть этой фразы представляет собой перевертыш, что-то вроде песочных часов с равными колбами, ведь кончиться может (что?) сегодня (когда?) завтра, так и завтра (что?) сегодня (когда?), если вы понимаете, о чем я. Но, что бы из них ни кончалось, в любом случае, животрепещет вопрос о том, каким будет вчера, каким оно станется, окажется, и даже стрясется. Потому что, пока нет готового сегодня (а его никогда не бывает), вчера все так же несет на себе неизбывную печать незавершенности. В эту посуду, что я мыла, выплевывали остатки пищи, одну припадочную толстуху сегодня вырвало прямо в суп, брызги хлюпнули во все рядом стоящие миски, но люди, что ели из них, вдруг показались мне тварями, - они накинулись на еду как будто с тем большим аппетитом. Раковина была большая. Глубокая. Почти как ванна в любом из тех домов, в которых я бывала (прямо скажем, дома эти не отличались большим разнообразием). Поэтому мне приходилось перегибаться, наклоняться низко, как только могла, и в лицо валил густой смрадный пар смываемого в клоаку варева. Едва ли кто-нибудь, кто видел меня раньше или, напротив, много позже, облаченную в черный или серый плащ, могли бы яственно представить мой тогдашний облик: поникшие пряди и глаза, лицо-схема, мокрый фартук поверх ночнушки и халата. Впрочем, это все ерунда. Я забыла рассказать о том, как стирала простынь, обгаженную старушкой из первой палаты, которая любила выходить голышом в коридор, потирать свои груди руками, все время находилась в совсем бессознательных движениях, словом, вела себя, как сущий младенец. Ссущий младенец. Думаю, когда она умерла - помню синий и маленький, похожий на тельце курицы, трупик - она отправилась к своим родителям в их молодость, где они снова заботливо ее пеленали и меняли ей простынки. А здесь ее матерью была я - хотя она годилась мне в прабабки. Я полоскала простыню, на которой от воды медленно истаивало ярко-желтое, как око яичницы-глазуньи, пятно, и решительно не ощущала ни капли брезгливости. Никогда уже после я не понимала так ясно: все мы рождались столько раз, что успели побывать собственными детьми. Таблетки, которые мне давали (врач назначил их еще до того, как получил результаты анализов и до момента нашей первой встречи), оказывали свое действие, и мыть посуду было тяжело. Казалось, вся кровь приливает к голове и вот-вот начнет струиться по капле из носа, из глаз, побежит тонкой струйкой изо рта, стекая на посуду... Каждую тарелку надо выскрести, вычистить... Нет, мне больше нравилось мыть чашки. Когда я их терла, я просто отдыхала душой. Чашки были не стальные - жестяные, эмалированные. А те тарелки до сих пор нет-нет и попадаются на моем пути: то я зайду в столовую в Питере и передо мной поставят одну из них, то подруга угостит из такой. Я им приветливо улыбаюсь: я знаю, что у меня впереди их осталось еще очень много. Гораздо больше двухсот.
|
|
|||||||||||||||
|
|


