 |
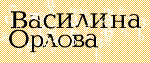 |
||||||
| ЛУННЫЙ БЛИК НА ОТДАЛЕННОЙ КРЫШЕ |
| стр. 3 | содержание |
|
|||||
|
Я сижу на Останкинской игле, Сижу на Останкинской игле...
Въезжает в тему Рома с хулиганским прищуром. Недурно. Крепко схвачено. Не ты один, Рома, на этой игле...
Настроение на нуле, Мозги - кисель на воде. Расскажи, Гайдарушка, как дела? Расскажи, Егорушка, где была?
- Это ты их так натаскал? - Спрашиваю Вовку. - Я? - Удивляется. - Нет. Сами. Это его песня. Куковякин четко схватывает тему. Всегда четко схватывает. Кто знает, может, и вправду однажды придется писать книгу про этого лобастенького. Что-нибудь о социальном протестанте, обличителе технокультуры, борце за чистоту нравственных восприятий... Репетиция кончается. Отправляемся за вином. - Перспективы у нас отменные. - Делится Вовка, поддерживая меня под локоть на крутой лестнице. - Намечается даже продюсер. Это ж студийная запись. Но в группе сложные отношения. Шура собирается уходить, да и работать с ними бывает тяжело. Все какие-то нецелеустремленные. Относятся к группе, как к хобби. Я им говорю, мы первое место займем по ялтинскому выступлению. Будет тут одно, скоро. А они вянут, мол, не будет первого места. Нет, я от них в Америку уеду. Если с продюсером ничего не выйдет. - Зачем в Америку-то? - Жить. Фильмы делать. У нас киноиндустрия разваленная... Ну вот, не получится книги. Лобастенький-то отнюдь и сам не борец. Двинет в Америку за сладкой жизнью. Хорош протестант... - Вам какого? - Спрашивает киоскерша. - "Анапу". - Ядовитое? - любопытствую я. - Что вы, девушка! - Это ж Крым. - Напомнил Вова. Ближе к утру сижу перед телевизором, фокусируясь на картинке только что сварганенного клипа. Коллажный видеоряд - волк из "Ну, погоди" разевает пасть - сумасшедший, украденный из какого-то остросюжетного шедевра, удирает от врача - крошится стекло - одноглазый старик за столом на великосветском приеме - чудовище съедает двоих напуганных людей... И далее в том же духе. Хосе-Игнасио уехал на ранчо, Хуан-Антонио попал под машину, Мария узнала, что она приемная дочь Люсии-Кульминарес. Кайф, кайф, новая двести девятнадцатая серия.
Погода нынче хорошая. Наконец-то выплатили пенсию. Переживаю, внучок, за судьбу Родни Хуана-Антонио: Как они будут без кормильца?! Кайф, кайф, грустная двести двадцатая серия. Вечная Двести двадцать первая-а... Экран блеснул в последний раз голливудской улыбкой и пошел полосами. - Ну как? - С гордостью обернулся Вова. - Во! - Бессовестно показываю большой палец. - Какая печаль, что в Москве этим никто не занимается. А если и занимается, то как пробиться?.. Другое дело - здесь. Все на виду. Теперь ты понимаешь, отчего меня постоянно тянет в Ялту! Теперь я его понимаю. И снова появляется надежда: а вдруг еще удастся написать книгу... Волна с силой двинула о набережную и поднялась снопами тяжелых, беломраморных брызг. Дети и взрослые, с замиранием сердца стоявшие у края, разбегаются в разные стороны, вскрикивая от ужаса и восторга. Усаживаюсь на скамейку и принимаюсь медитировать. Горький жил здесь. Там, на возвышении, стоит засиженный чайками памятник ему. Какая все-таки нелепость памятники. Сама традиция - ставить каменных, бронзовых, гипсовых истуканов - из язычества, от непонимания самой сути человеческих стремлений, порывов, дерзаний. Творец должен бунтовать, беситься от одной мысли, что по смерти его живое тело закуют в камень. Горькому не понравилось бы его засиженное изваяние. А может, покашливал бы в кулак с усмешкой: "Эх, люди, люди!.." О своих соотечественниках , уехавших в поисках счастья к чужим берегам Черноморья, он писал как-то: "Это - скучные люди, раздавленные своим горем, оно сорвало их с родной, усталой, неродимой земли и, как ветер сухие листья осени, занесло сюда, где роскошь незнакомой природы - изумив - ослепила..." Но ведь зачем-то в дали дальние, чужие, тянуло и Горького. И Чехова. И других. Что искали они? От чего бежали? Не потому ведь только стремились на Черноморье, что здесь лучше работается, под разлапистой пальмой и веселым солнышком? Вспоминаю Москву. Там сейчас сыро, серо, хмуро и неуютно. Бездорожье-распутица в Подмосковье. Пасмурный лес. Чего философствовать, куда как понятно - почему сбегают к Черному морю. Ялтинский гаврош смотрит, щурясь: - Приезжая?.. Кто же приезжает на море осенью? - Тот, кто не приезжает весной, зимой, летом. - Ну-ну. Хочешь, расскажу историю своей жизни? - Усаживается гаврош на скамейку. - Мокрая, не садись. - Ерунда, я все равно вымок. Он вымок оттого, что стоял под самым накатом волны. Все разбегались, а он стоял. Сейчас тычет пальцем в сторону нового водяного взрыва. - Видала, как тетка скакнула? Фря! - Проворно вскакивает и проходится вихляющей походкой, передразнивая незадачливую женщину. - Очень похоже, - отмечаю справедливости ради, - только некрасиво это с твоей стороны. - Ха! - Глаза с зеленцой дерзко уставились в переносицу. - Была обещана история жизни, - не без поспешности напоминаю. - А, история... - он словно слегка раздосадован своим обещанием. - Что рассказывать... Отца моего давно черти жрут на кладбище. - И тебя будут. - Меня рыбы будут есть в море, - просто объясняет он. - Ты знаешь, почему море такое зеленое? В нем много медного купороса. - И причем здесь ты? То есть рыбы? - Какие рыбы? На бронзе знаешь - зелень? Вот - здесь тоже... Диалектик. Детские ассоциации уже не могут быть улавливаемы человеком в моих старческих годах. - О чем ты думаешь, когда смотришь на море? - Задает мой диалектик вопрос. Совсем уж литературный, надуманный вопрос, прямо скажем. - Я? - Смотрю вдаль и произношу неуверенно, боясь такого же надуманного ответа. - О величии человека, наверно. - Тю, дура... - Да, похоже. - Ладно, не переживай. - Успокаивает меня мой любезный друг. - Вот я вообще ни о чем не думаю, когда здесь тыняюсь. Это в школе думать надо, как учителку наколоть. И дома - куда дневник от матери сховать. В гробу я видел эту учебу. Убегу летом. Проберусь на какой-нибудь пароход, и... Куда подальше. И этот - в Америку... К скамейке слетаются голуби и чайки. - А мне казалось, у моря голуби не водятся, - говорю я. - Улет! А чайки?
|
|
|||||||||||||||||||
|
|


