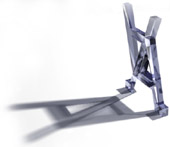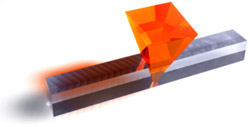| |
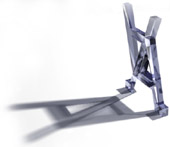 |
|
|
У Таисии Попенко есть то, чем обладают немногие:
осознание своей цели, если угодно, миссии. Стержень личности актрисы,
ставший знаменателем ее таланта – удивительная искренность. Немногочисленные
рецензии на спектакли с участием Попенко неизменно отмечают «удивительность
ее игры», страстность, способность «умирать в своих героинях», «предельную
самоотверженность». Несмотря на расхожесть подобных формулировок, они
в данном случае оправданны. Это не избыточно эмоциональная похвала, а,
пусть и метафорическая, констатация реально наблюдаемого.
Само-отверженность – буквальное определение взаимоотношений актрисы с
ролью: отвергнуть всё случайное, хаотическое, наносное, неорганичное –
всё, что нарушает гармонию собственной личности, а значит, разрушает целостность
создаваемого образа.
Само-отверженность Попенко – не отречение от себя (знаменитое «от себя
к образу» Станиславского), но следование себе. Глубина личности актрисы,
сила ее реальных человеческих страстей позволяют ей не только соотнести
себя с интуитивно постигаемым образом, всмотреться в него, как в зеркало,
но сделать этот образ сферой и способом личностного существования.
Войти в «я образа» значит «расширить» «я собственное», укрупнить свой
человеческий масштаб, обогатиться чувственными и волевыми импульсами героя.
Несмотря на столь глубокое (как представляется, самозабвенное, безотчетное)
врастание актрисы в жизни и судьбы своих героинь, в игре Таисии Попенко
присутствует скрытая рефлексия, проявляющаяся прежде всего в собранности,
сосредоточенности, даже строгости «к себе в роли».
Сценическое поведение Попенко всегда творчески осознано. Актриса словно
дает почувствовать зрителю, что она ответственна за последствия театральных
впечатлений, понимает их значимость для самоощущения каждого присутствующего.
Она не просто носитель яркого, увлекающего таланта, но творческой Темы.
Для Попенко ее Тема – тема Одиночества – выстраданный мотив собственной
судьбы. Одиночество как дар и проклятие, блаженное состояние «покоя и
воли» и болезненный депрессивный синдром – всякая новая роль задается
как вариант этой темы. Любой созданный ею образ при безусловной его уникальности
и самоценности, с подлинной полнотой читается лишь в режиме диалога с
образом предшествующим, ибо они объединены темой, «работают» на тему,
превращают тему из ситуации, обстоятельств в философскую категорию.
Сценическая самоотверженность Попенко, а также наличие у актрисы вполне
определенного и непосредственно переживаемого творческого мотива требуют
особой «монодийной» формы сценического выражения. Именно условия моноспектакля
обеспечивают состояние «наедине со всеми», мобилизующее все ее психофизические
ресурсы , заставляющие текст любой жанровой формы звучать в ее устах как
исповедь.

Герои трех моноспектаклей Попенко, созданных ею за последнее десятилетие,
воплощают своеобразие ипостаси темы: несчастная, полу-сумасшедшая Ада
из спектакля по пьесе Н. Коляды «Шерочка с машерочкой» – одиночество как
безысходность. Полная врожденного величия и царственной простоты Пенелопа
из спектакля по пьесе Ю. Волкова «Пенелопа» – одиночество как надежда.
Хрупкий и трепетный Маленький Принц из спектакля по произведению А. Сент-Экзюпери
– одиночество как познание и обретение. Персонажи, полные взаимной разноты,
плебейка, царица, материализовавшееся из звездной пыли полубожество –
требуют от актрисы специфических, контрастных средств сценического выражения.
Попенко-Ада – подчеркнуто некрасивая, угловатая, по-вороньи ковыляющая
на плоских, растоптанных ступнях, – с первых же минут заражает зал болезнью
безысходности. Мир ее души – черная дыра, спираль адовых кругов, где прежде
времени были похоронены, а теперь извергаются воспоминания об утраченных
иллюзиях: былой своей нужности, теперешней преданности, невостребованной
любви. Отчаянным взглядом «ощупывая» зал, словно отыскивая в нем (в каждом
из зрителей) соучастницу своих страданий – облезлую паршивую кошку, она
кается и обличает, рыдает и смеется. Пластический рисунок роли построен
на контрастах: нервозная двигательная активность, хаотичность речи и мысли
сменяются тупым оцепенением, безучастностью, безразличием. Эту героиню
не хочется любить, и даже жалость к ней дается с усилием. «Боюсь быть
похожей на нее, но ощущаю себя ей» – эта фраза, принадлежащая самой актрисе,
демонстрирует сложность природы личности творца. Попенко одновременно
ощущает неприязнь к озлобленному, неженственному женского пола существу
как отталкивающему факту жизненной реальности и внутреннее приятие интуитивно
прозреваемого образа – образа женского одиночества.
Для Пенелопы Попенко собирает весь арсенал пластических решений, составляющих
представление о царственной грации. Живая непосредственность открытого
жеста, свойственная обычно беспечной юности – в минуты светлых воспоминаний;
изящные, мягкие жесты рук – лебединых крыльев, стремительный танцевальный
шаг – в минуты любовных переживаний; холодная мраморность плеч и посадки
головы – в минуты горестных обличений.
Современная пьеса вынуждает Пенелопу на встречу с нелюбимым мужем, однажды
обрекшим ее на одиночество, а теперь своим появлением отбирающего у нее
этот дар. Будущее мертво. Но есть прошлое одиночество, когда пустоту своего
естества она насытила надеждой, страстью, любовью – всем, что может составлять
пищу души. В ответ на мольбу мироздание безмолвствует. Пощады не будет.
Но есть надежда. Надежда на самом дне одиночества – немного солнца в холодной
воде.
Помимо общности темы, героини Попенко объединены еще одной особенностью.
Она – в странности, «неотмирности» этих персонажей.
И в Аде, и в Пенелопе, и в подлинном воплощении неотмирости – Маленьком
Принце (герое нездешнем, сказочном) пульсирует, бьется, прорывается и
изливается потоком откровение о себе и мире. Отчаянная безбоязненность
в отражении чувства – вот что сообщает этим героиням столь пугающую и
завораживающую странность. Они странны именно своей предельной искренностью.
Странность присутствует и в сценографии спектаклей: героини Попенко живут
в аскетичном, лишенном вещей пространстве. Вещи не нужны, они незначимы,
ибо само пространство воспринимается не как внешнее, но как развернутое,
распластанное, распятое внутренне. Метафора о художественном образе как
сфере существования личности творца приобретает здесь реальное сценическое
выражение.
Органичным продолжением темы одиночества стала для Попенко роль Софьи
Коломийцевой в спектакле «Последние» по одноименной пьесе М. Горького.
В общей оркестровке Александра Кузина трагическая мелодия Софьи звучит
контрапунктом: она, мать, средоточие всех семейных связей, в бессильном
исступлении наблюдает, как рвутся родственные узы, как распадается круг
чад и домочадцев и замыкается круг нелюбви и порока, обмана. Отношением
к героине поверяется человеческая сущность ближних, на нее обрушивается
отмщение за их грехи.
Невыносимую тяжесть бытия, которую суждено постичь Софье, актриса проживает
в полной мере. И это уже сродни творческому подвигу, недаром режиссер
спектакля в одном из своих интервью отметил, что без Таисии Попенко постановка
не смола бы состояться.
В интерпретации Попенко трагическая судьба Софьи приобретает особый возвышенный
смысл. Путь героини – это не только падение в бездну отчаяния и безысходности,
но и восхождение на Голгофу собственной совести. Она еще исповедует лицемерную,
рабскую мораль умиротворения неправедной силы, когда, с трудом умеряя
дрожание рук, накрывает обеденный стол к приезду мужа и когда, втянув
голову в плечи, отрешенно молчит, не в силах ответить на разоблачающие
вопросы подростка-сына, и когда с искаженным страданиями лицом делает
жалкие попытки укротить беспощадный гнев разъяренного отца семейства.
«Держательница мира», столько лет питавшая себя хрупкой иллюзией благополучия,
она еще вдохновляется идеей жертвенности во имя всеобщего спокойствия.
Но по мере того, как слепнущим глазам Софии предстают все более ужасающие
картины порочного поведения ближних, ее внутреннему зрению открывается
необратимость их духовного распада.
Звуком оборванной на высокой ноте струны раздается покаянный крик Софьи.
Это безумное финальное «соло» актриса сопровождает стремительной, свободной
от оков пластикой. Осторожная сдержанность исчезает, в этот миг Попенко
– Софья не стыдится своей буйной юродивости.
Героиня Попенко сознает и малодушие былого смирения, и бессмысленность
теперешнего бунта, но оказывается выше истинного сохранения приличий,
выше инстинкта физического самосохранения: она делает отчаянную попытку
спасти и сохранить свою живую душу и души рожденных ею детей.
Сцена покаяния Софьи подобна мощному разряду долго аккумулируемой энергии:
эмоционально-психологическая сила и пластическая «организация» этого взрыва
возносят созданный актрисой образ на
уровень символического звучания. При этом фигура Софьи остается совершенно
естественной и органической, лишенной избыточноложной патетики.
Ход Попенко парадоксален и оттого действенен: круговорот каждодневных
суетных «семейных хлопот» героини она интерпретирует как тяжелый летаргический
сон. А неистовый, точно безумный, всплеск эмоций как пробуждение, момент
истины, в котором заново открывается надменный смысл всей предшествующей
неправедно прожитой жизни.
Выстраивая тонкие психологические нюансировки по канве продуманно-сдержанных,
строгих и стройных мизансцен, актриса не боится ярких, взрывных кульминаций,
ибо в таких контрастных столкновениях, словно при свете молнии, проявляется
многомерность, многосмысленность проживаемого образа.

У Таисии Попенко отсутствует то профессиональное состояние, которое принято
называть самоутверждением. Создается впечатление, что ее творческие способности,
как это ни парадоксально, не нуждаются в развитии. Они раз и навсегда
даны актрисе во всем совершенстве: глубина проникновения в образ и мастерство
его воплощения.
Каждая новая роль Таисии Попенко – повод для выявления потенциально присутствующих
смыслов. Каждый новый образ – продолжение предшествующего, непрекращающийся
исповедальный монолог. Ее творческий «метод» подразумевает некую «консервацию»
чувств, способность уединяться и физически и психологически, уходить в
себя. Потому-то Маленький Принц, сыгранный Попенко в возрасте уже за сорок,
не носит, как кажется, печати актерской бравады своей физической моложавостью.
Эта роль, неслучившаяся когда-то, возникает теперь естественно и непринужденно,
как всплеск любви и нежности, всегда живших в душе актрисы.
Самоотверженная целеустремленность, неприятие стереотипа, «высшее напряжение»
проживания каждого образа, жертвенность, не только творческая, но и человеческая
– все эти качества делают Таисию Попенко уникальным явлением театральной
культуры.
И главное, ключевое свойство, таящее в себе бездну новых открытий, – странность.
Странность, которая всегда рождалась предельной – именно предельной –
естественностью этой актрисы.
|
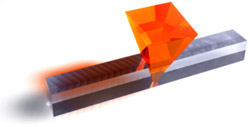
|
|