 |
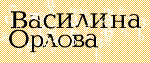 |
||||||
| Вчера очерк |
| стр. 22 | содержание |
|
|||||
|
Окончив загодя продуманное вступление, садится рядом: - Не мог я тебе этих простых слов по телефону сказать. Потирает ладонью лоб. - Прогуляемся, - предлагаю я. В городе сегодня душно. Машины. Говорить невозможно. Зачем-то останавливаемся напротив какой-то витрины. Стоим и молчим - то ли слишком много должно быть сказано, то ли сказать нечего. - Насильно мил не будешь, - с застывшей улыбкой говорит Никита. - Прости за банальность. Я делаю судорожное движение. - Не надо. - Он спокойно поднимает руку. - Тихо. Смотрит прямо в глаза. Может быть, тот старик ему тоже встречался? Я напряженно держу взгляд. Но не могу. Никита отступает на шаг, слегка кивает и не спеша уходит. Гляжу вослед. Силуэт. Все? Опускаюсь на асфальт, на корточки. Встала бы и на колени - так я устала. Но на колени - довольно пошло, и потом, выстиранные джинсы. Догнать? Только в семнадцать лет могут быть такие невнятные, такие больные и такие важные встречи, разговоры, размолвки. - Какое облегченье, что он ушел! - говорю кому-то. Дурацкая, дурацкая детская история. Умер дед. Это произошло в апреле. Я впервые в жизни (Господи, и как надеюсь, что больше никогда) увидела, как мамино лицо позеленело и состарилось в минуту. Телефонная трубка выпала у нее из рук. Она собралась на похороны. Всегдашний Киевский вокзал, навевающий приятные мысли, нынче выглядел каким-то наваждением. Не верилось, что дед, наш властный, суровый, и вместе с тем всегда ласковый к внукам дед больше никогда не встретит нас у зеленой калитки. Мама вернулась совсем усталая. Привезла фотографии. В той комнате, где мы проводили больше всего времени, потому что там было три окна и там было светло, стоит гроб. Как это можно понять? Сколько лет надо прожить, чтобы постигнуть, что люди смертны? Кладбище по-украински - гробовище. Не правда ли, весомое слово? Я водила сюда младших сестер, Варвариных дочек, на могилу деда. - Вот как мы у мамы были в животике, так же и в могилах, да? - Высказала одна из них в числе прочих антропологических догадок о загробной жизни. Вторая сделала предположение: - Бог работает доктором. - Почему? - Ну, он ведь может вылечить человека, а может и не вылечить. - Я не знаю, кто такой Бог, - призналась я. - Бог - это миллион раз человек. - был ответ. Я любила гулять по Дударкивскому кладбищу. Железные ограды, выкрашенные веселенькой голубой краской, скромные плиты, «помним, любим, скорбим», простые кресты, эмалевые портреты, на них - простые, понятные, как будто даже знакомые лица. Если идти в глубину кладбища, там можно встретить вместо креста над могилой пирамиду с красной звездой. Но слова будут те же - «помним, любим, скорбим», «дорогому мужу и любимому отцу». Не однажды здесь, среди гладиолусов, календулы и чернобривцев, я плакала, тронутая чужим неизбывным горем, которое было так немногословно, так некрасноречиво. И вот теперь это горе и мое тоже. Да, где-то здесь лежала и моя прабабка, старшие знают, где именно, но что мне до нее, я ее почти не помню, она из незапамятных времен, из доисторического... - Представляешь, - сказала мама, - он умер во сне. - Легкая, безболезненная смерть, - сказала я, утешая ее. - Да, но мне все кажется, что он... - Она замялась. Она, видно, искала слова и не находила. - Что он... Ну, не знает о своей смерти. Понимаешь? Она смотрела так, что у меня, признаться, волосы на голове зашевелились. Происходили трагические события. Трагические не для одной семьи - для страны. Черный вторник, помнится, застал нас в деревне... И именно в Дударкове мы узнали, нам сказали об этом знакомые хлопцы, что в Москве на Пушкинской площади грохнул взрыв. Говорили, погибло по меньшей мере семеро. Не один и не два года в Москву просто-таки страшно было возвращаться. Впрочем, еще раньше родители боялись отпускать нас на Украину - из-за Чернобыля. Когда масштабы катастрофы были еще не ясны. Почти сразу после Пушкинской площади был «Курск», мы только-только вернулись и были оглушены происшествием. А сколько вокруг этого было истерики на телевидении! Сколько воплей о полной несостоятельности нашей армии! Еще причины были не ясны, а радиостанция «Свобода» уже призывала «вешать и топить всех генералов». Боже мой, надо было видеть, с каким лицом ведущий передачи «Катастрофы недели» скорбно и сдержанно произнес: - А теперь реклама. И прервал программу для дебильного рекламного ролика, радостный идиотизм полился с экрана. «Счастье благодаря Фейри»! Наверно, если разразится третья мировая война, то воззвание президента к народу тоже будет прервано рекламой каких-нибудь прокладок. А еще через несколько дней сгорела Останкинская телебашня, и, честное слово, тут впервые на лицах телевизионщиков появилось что-то напоминающее человеческое выражение, поскольку дело касалось их самих. Все остальные новости были заброшены. До последнего москвичи надеялись, что пропавшие без вести четыре человека в шахте лифта остались живы. Фаталисты повторяли обрывки информации: «У них там кислорода было всего на четыре часа... Это у пожарных... А лифтерша и вовсе, понятно, без защиты там... Погибли, конечно». А когда занималось пламя, и спускалось ниже и ниже, как по неведомым этажам, мы с отцом с балкона наблюдали это без трепета. - Горит, - чей-то голос снизу, докладывающий, видимо, домашним, с интонацией «Горит, что ей сделается...» - Так им и надо, - соседи справа. - А что осталось? ТНТ. И такую чушню показывают!.. Сериалы гонят. - Забьют его под завязку рекламой, да и дело с концом. - Главное, чтобы жертв не было. - Ну, что это, по-вашему? Наш ответ Чемберлену?.. - Замыкание, наверно. Сколько без ремонта. - Не показывай, да не показываем будешь, - резюмировал сосед. Газеты на следующий день написали, что мы вступаем в полосу техногенных катастроф. Острили: тинейджеры остались без пейджеров. Говорили, башню будут разбирать. В советское время, оказывается, была резервная система на Шаболовке. Однако ее больше нет. Если в стране тонет ядерная подлодка, а перед этим гремит взрыв в центре города, а перед этим один за другим рушатся дома, и никто ничего не может поделать, все ложатся спать с ощущением, что больше не проснутся... А потом горит главная телебашня страны, что же дальше? Взрыв на АЭС? Бомба на Красной площади? Крушение метрополитена? Самолет, врезавшийся в Кремль? Захват театра террористами? Что в этом идейном вихре, месиме событий, моя жизнь в черном пространстве между ночным и утренним полустанком, Россией и Украиной, городом и деревней? Бытование-кочевье между мимолетными встречами и навечным, кровным родством, между Богу свечкой и черту кочергой, встречей и прощаньем, асфальтом и грунтовкой, пепси-колой и парным молоком, между Интернетом и огородом, - Господи, вся моя пока недолгая жизнь умещается именно между. И тактовая черта в этой несколько дерганной мелодии - поезд, постоянный, нескончаемый поезд, с кукурузой, протянутой старухой за мятый портрет Ярослава Мудрого или Владимира Великого, кого там разместили на гривне. С окликами таможенников, разговорами попутчиков. Плач ребенка сквозь чуткий дорожный сон. Железнодорожный чай в стаканах с подстаканниками, знакомыми с детства. Пластиковая бутылка скверного, из одних подсластителей, лимонада. Духота, радости и неприятности - плацкарта, судьба одна на всех. Синие от пыли веки, заспанные лица. Вот я снова, который уже раз, возвращаюсь в поезде в Москву. Возвращаюсь и возвращаюсь, и никак не могу вернуться вся, целиком. Вечно душа застревает то на коровьей «паше», то на сельском кладбище. Она цепляется за ветви вяза, хватается за каждую соломинку в скирдах за хатой. Опять бабушка, утирая слезу уголком своей хустки, сунула тебе в руку пятьдесят карбованцев на дорогу, и отказываться не смей - обидишь. А мир Москвы затаился в ожидании катастроф. Каким далеким, несбыточным, сказочным отсюда видится Дударков! Село, в которое из Киева и обратно полгода назад начал курсировать двухэтажный автобус, чудо-сооружение. На таком и в Москве-то пока не прокатишься. А на привольном, широком майдане в центре – палаточка с мороженым, в основном, иностранным, и другими благами цивилизации. Туземцы, вечно чумазые ребятишки и пьяные мужики, целый день толкутся тут. Однако Дударков помнится другим, и любим мною другим. Но я даже не знаю, существует ли он? Чтобы вот так, просыпаясь, с утра выходить на крыльцо, и справа в тени сирени - умывальник, а над дорожкой арка вьющегося винограда, и куры ходят, разгребая сор, клюют просо, и под водосточным желобом - жестяное корыто, до половины полное дождевой водой. И за ночь попадали яблоки и раскатились по двору, земля вся пятнистая - солнечный свет сквозь листву. А завтра все равно наступит день. Другой. Киев-Дударков-Москва 1998, 2003
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|


